Самое очевидное и заметное, что возможно вынести из чтения Нового Завета –
Христос ни разу магию, колдовство, гадание, и тому подобное НЕ ОСУДИЛ. Ни разу.
Удивительно, правда? Вопросы возврата долгов и супружеской верности оказались
гораздо важней, чем такое ужасное прегрешение! Казалось бы, если этот грех столь
ужасен – не мог бы он быть обойден вниманием. А вот поди ж ты…
Христа в колдовстве обвиняли – это было. Во всяком случае, если опираться не на
одно Евангелие, в котором такое прямыми словами не упомянуто, а заглянуть еще и
в Талмуд, где кое-что об этом сказано:
И глашатай
предшествует ему (осужденному). Это означает: непосредственно перед [казнью], а
не задолго до нее.
Однако передают: в канун Пасхи
повесили Иешу. И за сорок дней провозгласили, что его должны побить камнями за
то, что он занимался колдовством и совращал Израиль: кто может сказать что-либо
в его защиту, пусть придет и скажет. Но никто не выступил в его защиту, и его
повесили в канун Пасхи. — Сказал Улла:
допустим, он был бунтовщиком, тогда можно было искать [поводов для] защиты; но
ведь он был совратителем, а о таком Милосердный говорит: «не жалей его и не
прикрывай его» (Вт 13:8). С Иешу, однако, иное дело, ибо он был близок к
царскому двору.
Всякий,
царапающий на теле своем, подлежит наказанию, но делающий знаки на теле своем от
наказания
свободен.
Сказал р. Элиезер [бен Гирканос]: но ведь таким образом Бен Стада
вынес магию из Египта! Ему возразили: разве из-за одного безумного можно
привлекать к наказанию здравых людей?
Такого
убеждения придерживались не только озлобленные на Христа иудеи. Отголоски
подобных суждений мы можем обнаружить еще в
III
веке – именно так, со слов Оригена, рассуждал Цельс.
Очевидно,
предполагая, что в данном случае мы могли бы указать на совершенные Иисусом
великие (чудесные) деяния, из которых выше мы приводили только очень немногие, —
Цельс вслед за вышеприведенными своими словами сам приводит и, по-видимому,
выдает за истину то, что в Писании говорится об исцелениях, о воскрешении, о
небольшом количестве хлебов, доставивших насыщение множеству людей и давших еще
значительное количество остатков, — выдает за истину и все остальное, что, по
его мнению, представляется чудесным в рассказах учеников (Иисуса). При этом он
обращается к ним с таким обвинением: «ну, допустим, что все эти деяния ты на
самом деле совершил». И далее он ставит эти самые деяния (Иисуса) на одну
ступень с теми действиями, которые совершают обыкновенно фокусники, заявляющие
при этом об их особенных чудесных свойствах, — ставит на одну ступень с
проделками лиц, которые получили свою науку от египтян и эту свою чудесную
мудрость показывают среди форума за несколько оболов — изгоняют из людей бесов,
выдувают болезни, вызывают души героев, уставляют столы дорогими яствами и
закусками, хотя последних на самом деле и не бывает, приводят в движение вещи,
как бы они были живыми существами, хотя на самом деле они и не имеют ничего
общего с действительностью и только призрачно кажутся такими. Цельс задает даже
такие вопросы: «если те люди могут совершать подобные вещи, то неужели за это
именно мы должны считать их сынами Божиими? Не должны ли мы, скорее, говорить,
что подобного рода занятия свойственны только людям дурным, имеющим общение с
демонами?»
Из этих
слов можно видеть, что Цельс недалек от того, чтобы допустить магию. И я не
знаю, он ли уже это тот, который писал многочисленные сочинения против магии.
Очевидно, ввиду указанной цели ему выгодно приравнять к деяниям магии все то,
что говорится в писании об Иисусе.
И даже до
времен написания Корана дожила память об этих обвинениях:
И вот
сказал Иса (Иисус), сын Марйам (Марии): “О сыны Исраила! Я -посланник Аллаха к
вам, подтверждающий истинность того, что ниспослано до меня в Торе, и
благовествующий о посланнике, который придет после меня, имя которому Ахмад”.
Когда же он пришел с ясными знамениями, то они сказали: “Это - явное
колдовство!”
А вот
Христос про колдовство молчал…
Этот факт сам по себе должен был бы насторожить. Но почему-то не настораживает.
Православные не склонны придавать словам Христа какое-либо отдельное значение.
Принято рассматривать весь Новый Завет в совокупности как единое творение и
Слово Божье. Так что, кое-какой урожай, хоть и весьма хилый, собрать и с Нового
Завета удается.
Собственно, прямых осуждений колдовства на весь этот солидный объем, состоящий
из 27 книг, находится всего-навсего три. По сравнению с частотой упоминаний в
Ветхом Завете – смехотворно. Однако ж они все-таки есть, и наш оппонент
непременно о них станет вспоминать в доказательство своей точки зрения.
Ну что ж, почитаем Новый Завет с ним вместе.
Синодальный перевод:
К Галатам
5
19 Дела
плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство,
20
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия,
[соблазны,] ереси,
21
ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и
прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют.
Откровение
21: 8
Боязливых
же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и
всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая.
Откровение
22: 15
А вне -
псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и
делающий неправду.
Вот,
собственно, и все, что можно почерпнуть из Нового Завета. Как-то совсем немного.
Правда (чему наш оппонент очень рад), высказано весьма категорично.
Ну что ж. Давайте разбираться.
Церковно-славянский текст нас на этот раз выручить не сможет – там написано
точно то же, что и в Синодальном переводе.
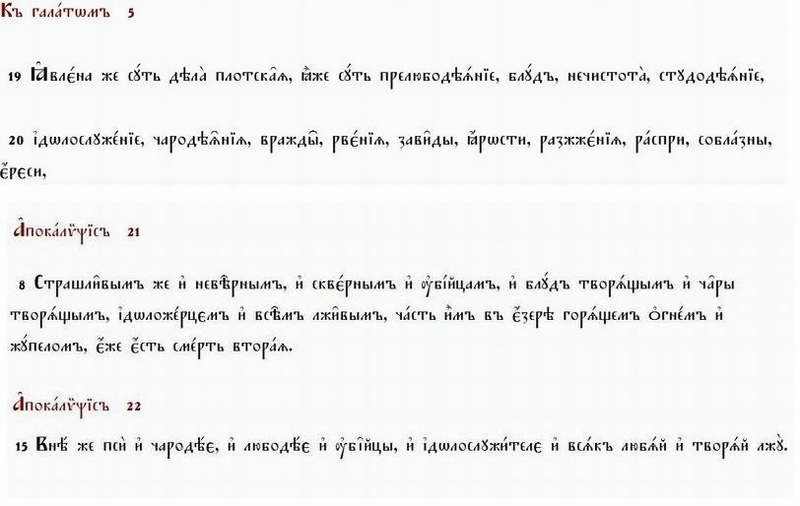
Посмотрим, как это звучало по-гречески.
К Галатам
5:
19
φανερα δέ εστιν τα έργα της σαρκός, άτινά εστιν πορνεία, ακαθαρσία,
ασέλγεια,
20
ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθραι, έρις, ζηλος, θυμοί, εριθείαι,
διχοστασίαι, αιρέσεις,
21
φθόνοι, μέθαι, κωμοι, και τα όμοια τούτοις, α προλέγω υμιν καθως
προειπον ότι οι τα τοιαũτα πράσσοντες βασιλείαν θεοũ ου
κληρονομήσουσιν.
Откровение
21:8
τοις δε
δειλοις και απίστοις και εβδελυγμένοις και φονεũσιν και πόρνοις και φαρμάκοις
και ειδωλολάτραις και πασιν τοις ψευδέσιν το μέρος αυτων εν τηέ λίμνη τη
καιομένη πυρι και θείω, ό εστιν ο θάνατος ο δεύτερος.
Откровение
22:15
έξω οι
κύνες και οι φάρμακοι και οι πόρνοι και οι φονεις και οι ειδωλολάτραι και
πας φιλων και ποιων ψεũδος.
Подстрочник греческого текста (обсуждаемое слово оставляю без перевода):
К Галатам
5:19-21
Явны же
есть дела плоти, те, которое есть блуд, нечистота, распущенность,
идолопоклонство, φαρμακεία, вражды, ссора, ревность, ярости,
соперничества, раздвоения, ереси, зависти, пьянства, гулянки, и подобное этим,
которое говорю наперед вам как я сказал прежде что таковое делающие Царство Бога
не унаследуют.
Откровение
21:8
Же
трусливым и неверным и осквернённым и убийцам и развратникам και φαρμάκοις
и идолопоклонникам и всем лжецам доля их в озере горящем огнём и серой, которое
есть смерть вторая.
Откровение
22:15
Вне псы
και οι φάρμακοι и развратники убийцы и идолопоклонники и всякий любящий и
творящий ложь.
Открываем
словарь Дворецкого.
Основное
корнеобразующее слово
φαρμακον
τό
зелье,
снадобье, (волшебное) питьё Hom., Theocr.;
лекарство
(όδυνήφατον Hom.; παιώνιον Aesch.): φ. τινος Aesch., Plat., Arst., Anth.
лекарство от чего-л.; φ. καταπλαστόν Arph. целебная мазь; τό φ. ποτόν Eur.
жидкое (внутреннее) лекарство; средство, способ: φ. τινος Aesch., Eur., Plat.,
реже πρός τι Arst. средство против чего-л., но тж. средство для чего-л.; φ.
πόνων Eur. средство против (от) горестей; μνήμης τε καί σοφίας φ. Plat. способ
обрести память и мудрость;
отрава, яд
(άνδροφόνον Hom.; όλέθριον Luc.): τό φ. έπιεν Plat. (Сократ) выпил яд;
красящее
вещество, краска Emped., Her., Aesch., Arph., Plat.
Производные:
φαρμακοω
отравлять:
μελίκρατον πεφαρμακωμένον Plut. отравленная смесь мёда с молоком;
(о
снадобье) смешивать, приготовлять (άντίτομα σύν έλαίω Pind.).
φαρμακος
ό
чародей
или отравитель NT;
очистительная жертва Arph.;
бран.
нечисть, осквернитель, негодяй Lys., Arph., Dem.
Φαρμάκεια
ή
Фармакия
(нимфа источника близ Илисса в Аттике) Plat.
φαρμακεία
1.медикамент, лекарство Xen., Plat.: αί άνω φαρμακεϊαι Arst. рвотные средства;
2.отравление (φ. ή άλλη κακουργία Dem.): αі περί τàς φαρμακείας Arst.
собирательницы ядовитых зелий, т. е. колдуньи;
3.отрава,
яд (óλέθριος φ. Plut.);
4.ведовство, волшебство NT.
φαρμάκεια
ή Arst. = φαρμακίς.
Аббревиатуры, определяющие первоисточник:
Aesch. -
Эсхил (525-456 гг. до н.э.)
Anth. - Палатинская Антология - сборник разных авторов и разных эпох
Arph. - Аристофан (444-380 гг. до н.э.)
Arst. - Аристотель (384-322 гг. до н.э.)
Dem. - Демосфен (381-322 гг. до н.э.)
Eur. - Эврипид (480-405 гг. до н.э.)
Her. - Геродот (484-424 гг. до н.э.)
Hom. - Гомер (X-IX вв. до н.э.)
Luc. - Лукиан (1-я пол. II в. н.э.)
Lys. - Лисий (445-378 гг. до н.э.)
NT. - Novum Testamentum (Новый
Завет)
Pind. -
Пиндар (522-442 гг. до н.э.)
Plat. - Платон (427-347 гг. до н.э.)
Plut. - Плутарх (40-120 гг. до н.э.)
Theocr. - Феокрит (310-245 гг. до н.э.)
Xen – Ксенофонт (430-355гг. до н. э.)
Итого. В словаре Дворецкого указание на значение слова φαρμακος как «чародей»
происходит из Нового Завета, да и то, с оговоркой «или отравитель». Значение
φαρμακεία как «ведовство» («волшебство») – оттуда ж.
Учитывая, что в Новом Завете, кроме Откровения Иоанна Богослова и послания к
Галатам, слово нигде не встречается, можно смело утверждать, что у Дворецкого
«чародей» указано как ТРАДИЦИОННО принятое в христианстве значение слова. Если б
это значение было реальным, никакого «или отравитель» стоять бы не могло.
Дворецкий, безусловно, читал φαρμακος в Новом Завете вовсе не как «чародей», но
не рискнул только такой перевод и указать, дабы не конфликтовать с традицией.
В
современных словарях греческого языка значение «чародей» зачастую вообще не
указывается. Заглянем, например, в словари на сайте
Academic Dictionaries and Encyclopedias
(www.enacademic.com).
Morphologia Graeca. 2013:
φάρμακον
φάρμακον
drug: neut
nom /voc /acc sg
φάρμακος
poisoner: masc acc sg
(φάρμακον –
препарат [в медицинском. фрамацевтическом смысле], φάρμακος – отравитель)
Dictionary of Greek. 2013:
φαρμακός
ό,
ΜΑ
κακούργος
που θανατωνόταν από την πολιτεία σε περίοδο λιμού ή συμφοράς για εξιλασμό ή
εξαγνισμό, κάθαρμα
αρχ.
1.
απόβρασμα τής κοινωνίας, κακούργος
2. στον
πληθ. οἱ φαρμακοί
(στην εορτή
τών Θαργηλίων) δύο άνδρες, συνήθως κατάδικοι, που τούς περιέφεραν στην πόλη για
να τήν απαλλάξουν από το μίασμα και τους οποίους έριχναν, μετά, στη θάλασσα ή
τούς έδιωχναν με μαστίγια έξω από τα σύνορα ή τούς έκαιγαν και σκόρπιζαν τη
στάχτη τους μακριά.
[ΕΤΥΜΟΛ. <
φάρμακον, με αλλαγή γένους και καταβιβασμό τού τόνου. Πρόκειται για το
εξιλαστήριο θύμα που απαλάσσει από το μίασμα, δηλ. φάρμακο, με τη μορφή
προσώπου].
(1 -
отбросы общества, злодей, 2 – препарат. Приведено пояснение происхождение
второго значения слова от ритуала жертвоприношения во время праздника таргелий,
которое мы также здесь рассмотрим).
В
современном русском языке постоянно используются слова, происходящие от
φαρμακον, в которых нет ни тени никакого колдовского смысла. Так,
фармакология не наука о колдовстве, а наука о лекарственных препаратах и их
действии на организм. Фармацевт – не чародей, а специалист по лекарствам.
Фармакогнозия – не чернокнижие, а изучение лекарственных средств. И т.д.
Мы
частенько употребляем пословицу «время лучший лекарь», даже не вспоминая, что
употребляем при этом слово φαρμακον. Да-да, у этой пословицы греческие корни.
Заглянем в интересную книгу «Греческие пословицы и поговорки и их аналоги в
русском языке», составленную Т.В. Кокуриной.
Там на странице 57 находится прямой аналог нашей пословице:
Ο χρόνος
απάσης εστίν οργής φάρμακον
Итак,
определение слова φαρμακον преимущественно сводится к двум основным значениям
яда и лекарства – противоположности, сходящиеся в руках фармаколога. Граница,
разделяющая яд и лекарство – она же весьма условная. И яд может стать
лекарством, и лекарство ядом. Все зависит от дозировки и способа применения, о
чем прекрасно знали еще в те времена, когда в обсуждаемом тексте написано
словечко φαρμακον. У великого врача античности Галена мы можем найти уже вполне
развернутую и систематизированную классификацию ядовитых веществ, а ведь он
почти современник Откровения.
Значения
φαρμακον «яд» и «лекарство» вовсе не всегда употребляются в буквальном смысле.
Например, Платон в диалогах часто называет Сократа словом φαρμακεύς, отнюдь не
имея в виду, что Сократ в буквальном смысле чародей, но что он великолепно
владеет «магией слова». У такой характеристики Платона есть и второй слой смысла
– слова Сократа зачастую были одновременно лекарством (φαρμακον) для души
слушателя, являясь одновременно и ядом для афинских властей.
На этой
игре слов «яд»-«лекарство» построены, например, рассуждения современного
философа Жака Дерриды (Jacques Derrida - † 2004) о Платоновом «Федре». Работа
так и озаглавлена – «Фармация Платона». Любознательным я посоветую прочесть
«Фармацию» целиком – работа того стоит. А пока что – обширная цитата из Дерриды
по теме.
4.
ФАРМАКОН
“Так вот и
для этих [зол], как всегда, законодателю надо приготовить фармакон. Впрочем,
давно уже правильно сказано, что трудно сражаться с двумя, да вдобавок еще
противоположными бедами, как это бывает при болезнях и во многих других
случаях.” (Законы, 919 b).
Вернемся к тексту Платона—предположив, что мы хоть на мгновенье оторвались от
него. Слово фармакон включено здесь в цепочку значений. Игра этой цепи кажется
систематичной. Но система здесь не является просто набором интенций автора,
известного под именем “Платон”. Прежде всего, система эта не является системой
подразумевания (vouloir-dire). Игрою языка выстраивается ряд регулярных связей
между разными функциями данного слова, и внутри него—между разными отложениями,
разными областями культуры. Эти связи, эти коридоры смысла Платон может иногда
открыто объявлять, объяснять, обыгрывая их “намеренно”—слово, которое мы берем в
кавычки, поскольку оно обозначает, если остаться в замкнутом пространстве этих
оппозиций, не более чем способ “подчинения” необходимостям “данного” языка. Ни
одно из этих понятий не может перевести отношение, которое нам здесь видится.
Точно так же, в других случаях Платон может не замечать взаимосвязей, оставлять
их в тени или вовсе разрывать. И всё же эти связи действуют—сами по себе.
Вопреки ему? благодаря ему? в его тексте? вне его текста? но тогда где? между
его текстом и языком? для какого читателя? в какой момент? Принципиальный и
всеобъемлющий ответ на подобные вопросы постепенно станет нам казаться
невозможным; и это заставит нас подозревать несообразность самого вопроса,
каждого из его понятий, каждой из аккредитованных в нем оппозиций. Всегда можно
будет предположить, что если сам Платон не пользовался теми или иными
переходами, и даже обрывал их, то не потому, что не заметил, но потому, что
оставил их заброшенными. Подобная формулировка возможна лишь в случае, если
удается избежать любого обращения к различию между сознанием и бессознательным,
между намеренным и ненамеренным: это различие—слишком грубое орудие, когда речь
идет об анализе отношения к языку. Так же обстояло бы дело и с оппозицией
речи—или письма—и языка, если бы ей пришлось, как это часто случается, отсылать,
в конечном счете, к этим категориям.
Уже одно
это соображение должно было бы помешать нам восстановить всю цепь значений
фармакона. Никакая абсолютная привилегия не дает нам права на абсолютную власть
в его текстуальной системе. Этот предел, тем не менее, может и должен в
известной мере смещаться. Возможности смещения, силы смещения—самой разной
природы, и чем перечислять здесь все его титулы, мы лучше попытаемся на ходу
(en-marchant) воспроизвести некоторые из его эффектов на материале платоновской
проблематики письма40.
Мы только
что проследили соответствие между фигурой Тота в египетской мифологии и
известной организацией понятий, философем, метафор и мифем, подобранных в том,
что зовется платоновским текстом. Слово фармакон показалось нам весьма
подходящим для того, чтобы связать в этом тексте все нити данного соответствия.
Теперь перечитаем—по-прежнему в переводе Робена—такую, например, фразу из Федра:
“‘Эта наука (μάθημα), царь,’—сказал Тевт,—‘сделает египтян более мудрыми
(σοφωτέρους) и памятливыми (μνημονικωτέρους): найдено лекарство (φάρμακον) для
памяти (μνήμη) и мудрости (σοφία)’”.
Расхожий
перевод фармакона словом лекарство—означающим благотворное снадобье—конечно, не
является неточным. Не только фармакон мог в самом деле подразумевать лекарство и
затирать—на определенной грани своего функционирования—неоднозначность
собственного смысла. Но очевидно даже, что и сам Тевт, коль скоро его
объявленный замысел—выставить в выгодном свете свое произведение, поворачивает
это слово вокруг его странной и незримой оси и представляет однополярным—под
единственным, более всего внушающим доверие углом зрения. Эта микстура
благотворна, она производит и поправляет, собирает и лечит, увеличивает знание и
сокращает забвенье. Однако перевод словом “лекарство” затирает, вследствие
выхода за рамки греческого языка, другой запасенный в слове фармакон полюс.
Такой перевод сводит на нет ресурс неоднозначности и усложняет, если не вовсе
делает невозможным, понимание контекста. В отличие от “снадобья” и даже от
“микстуры”, лекарство сквозит прозрачной рациональностью науки, техники и
терапевтической каузальности, тем самым исключая из текста взывание к магической
способности некоей силы, чьи действия плохо поддаются контролю, некоей δύναμις,
всегда гораздой удивить любого, кто захотел бы обойтись с ней как господин с
подданным.
С одной
стороны, Платон стремится представить письмо как оккультную, а значит,
подозрительную силу. Как и живопись, с которой он сравнит письмо чуть ниже, как
и обманку (trompe-l'œil), как и вообще все техники мимесиса. Известно также его
недоверие к гадателям, чародеям, колдунам, заклинателям (41). В Законах, в
частности, он припасает для них страшные наказания. Следуя линии, о которой нам
еще предстоит вспомнить в дальнейшем, он рекомендует исключать их из социального
пространства путем изгнанья или отсечения, даже то и другое сразу: заточением в
тюрьму, где бы их не могли больше посещать свободные люди, а только раб, который
приносил бы пищу; затем отказом в погребении: “В случае смерти его выбрасывают
непогребенным за пределы страны. Если же кто-либо из свободных людей погребет
его, то любой желающий может привлечь его к суду за нечестие” (X, 909 bc).
С другой
стороны, замечание царя предполагает, что действенность фармакона может поменять
направленность: может отягчить зло вместо того, чтобы его вылечить. Или, точнее,
царский ответ означает, что Тевт из хитрости и/или наивности показал оборотную
сторону истинного действия письма. Стремясь представить свое изобретение в
выгодном свете, Тевт таким образом извратил естество фармакона, сказал обратное
(τούναντίον) тому, на что действительно способно письмо. Вместо лекарства
подсунул отраву. Отсюда, перевод фармакона как лекарства, конечно, соответствует
не столько тому, что хотел сказать, подразумевал Тевт, и даже сам Платон,
сколько тому, что—по словам царя—сказал Тевт, обманывая его или же сам
обманываясь. Итак, коль скоро текст Платона преподносит ответ царя как истину
произведенья Тевта, а его слово—как истину письма, перевод словом лекарство
служит и обвинению Тевта в наивности либо подлоге с точки зрения солнца. С этой
точки зрения Тевт несомненно обыграл слово фармакон, разорвав в интересах своего
дела связь между двумя его противоположными значениями. Но царь восстанавливает
эту связь, а перевод этого не учитывает. Однако, двое собеседников, что бы они
ни делали и хотят они того или нет, неизменно остаются в едином поле одного и
того же означающего. Их дискурс играет на этом—по-французски такого уже не
происходит. Лекарство—с большим успехом, несомненно, нежели “микстура” или
“снадобье”,—напрочь устраняет виртуальную, динамическую ссылку на иные
употребления этого же слова в греческом языке. Помимо прочего, подобный перевод
уничтожает то, что чуть ниже мы назовем анаграмматическим письмом Платона,
разрывая взаимосвязи, сплетающиеся в нем между различными функциями одного и
того же слова в различных контекстах—взаимосвязи потенциально, но с
необходимостью “цитационные”. Когда то или иное слово записывается как цитация
какого-то другого смысла того же самого слова, когда текстуальная авансцена
слова фармакон, не переставая означать лекарство, цитирует, рецитирует и дает
прочесть то, что в том же самом слове означает—в другом месте и на другой
глубине сцены—отраву (к примеру, поскольку фармакон подразумевает еще и другие
вещи), выбор переводчиком какого-то одного из этих французских слов своим первым
эффектом имеет нейтрализацию цитационной игры, “анаграммы” и, в конечном счете,
самой текстуальности переведенного текста. Конечно, можно было бы показать—и в
надлежащий момент мы попытаемся это сделать,—что эта блокировка перехода между
противоположными значениями сама уже есть некий эффект “платонизма”, следствие
определенной работы, уже начавшейся внутри переведенного текста, внутри
отношения “Платона” к его “языку”. Между этим положением и предыдущим—никакого
противоречия. Коль скоро текстуальность составляется из различий и различий
между различиями, она по природе своей абсолютно гетерогенна и непрестанно
складывается, вступает в сделку с (compose avec) силами, которые стремятся
свести её на нет.
Итак,
следовало бы принять к сведению, отследить и проанализировать сложение
(composition) этих двух сил, этих двух жестов. В каком-то смысле даже, это
сочинение—единственная тема настоящего эссе. С одной стороны, Платон склоняется
к решению логики, нетерпимой к этому переходу между двумя противоположными
смыслами одного и того же слова, тем более что подобный переход окажется
абсолютно чужд простому смешению, чередованию, или диалектике
противоположностей. С другой стороны, всё же, фармакон, если наше прочтение
подтвердится, составляет изначальную среду этого решения, стихию, которая ему
предшествует, его объемлет и перехлестывает, ни при каких условиях не позволяет
свести себя к нему и неотделима от одного-единственного слова (или означающего
аппарата), действующего в греческом, платоновском тексте. Все переводы на
языки-наследники, языки-хранители западной метафизики оказывают, стало быть, на
фармакон насильственный аналитический эффект, который разрушает его, сводит к
одному из его простейших составляющих, парадоксально истолковывая фармакон из
более позднего из возможных благодаря ему значений. Такой истолковательный
перевод столь же насильствен, как и бессилен: он разрушает фармакон, но в то же
время запрещает себе к нему притронуться и оставляет нераспечатанным (inentamé
en sa réserve).
Итак,
перевод словом “лекарство” не смог бы быть ни принятым, ни попросту отвергнутым.
Даже если таким образом мы бы надеялись сохранить “рациональный” полюс и
хвалебную интенцию, идею благого употребления науки или искусства врачевания,
всё равно у нас были бы все шансы дать языку обмануть нас. Письмо по
Платону—настолько же лекарство, как и отрава. Еще прежде, чем Тамус роняет свой
уничижительный приговор, лекарство уже внушает, само по себе, тревогу. Следует
помнить, что Платон подозревает фармакон вообще, даже когда речь идет о
снадобьях, используемых в исключительно терапевтических целях, даже если они
направляются самыми добрыми намерениями, и даже если они эффективны как таковые.
Не существует безобидного лекарства. Фармакон никогда не может быть просто
благотворным.
По двум
причинам и на двух разных уровнях. Прежде всего, потому что благотворность
сущности и свойства фармакона не мешают ему приносить боль. В Протагоре φάρμακα
числятся среди вещей, которые могут быть одновременно благими (αγάθα) и
мучительными (άνιαρά) (354 a). Фармакон всегда берется в той смеси (σύμμεικτον),
о которой говорится также в Филебе (46 a),—например, эта ύβρις, эта неистовая и
разнузданная чрезмерность удовольствия, что заставляет людей неумеренных
кричать, как обезумевшие (45 e), и “облегчение, приносимое больным чесоткой
трением и похожими способами, когда не нужно никаких других лекарств (ούκ άλλης
δεόμενα φαρμάξεως)”. Это болезненное удовольствие, связанное как с болезнью, так
и с её унятием, и есть фармакон как таковой. Оно причастно разом благу и злу,
приятному и неприятному. Или, точнее, оно есть ком, в котором только и
проступают эти оппозиции.
Затем, на
более глубоком уровне, помимо боли, фармацевтическое лекарство по сути своей
вредно, поскольку искусственно. Здесь Платон следует греческой
традиции—конкретно врачам Косской школы. Фармакон противоречит естественной
жизни: не только жизни в тот момент, когда её не осаждает никакой недуг, но даже
и недужной жизни или, точнее, жизни недуга. Ибо Платон верит в естественную
жизнь, как и в нормальное, если так можно выразиться, развитие болезни. В Тимее
естественная болезнь сравнивается—так же как, если вспомнить, логос в Федре—с
живым организмом, которому следует дать развиваться согласно своим собственным
нормам и формам, своим особым ритмам и артикуляциям. И стало быть, коль скоро
фармакон сбивает с курса нормальное, естественное развитие болезни, он—враг
живого вообще, здорового или больного—неважно. Об этом необходимо вспомнить, и
сам Платон нас призывает к этому, когда письмо преподносится в качестве
фармакона. Противореча жизни, письмо—или, если угодно, фармакон—не устраняет
зла, а лишь смещает: бередит, даже дразнит его. Таким окажется, сведенное к
своей логической схеме, возражение царя против письма: под предлогом восполнения
памяти письмо делает нас еще более забывчивыми; далеко не приумножая знание,
оно, напротив, сокращает его. Оно не отвечает потребности памяти, бьёт мимо
цели, не укрепляет мнему—только гипомнесис. Оно действует, стало быть, как и
всякий фармакон. И если в двух текстах, которые мы сейчас представим на
рассмотрение, формальная структура аргументации оказывается в принципе
одинаковой; если в обоих случаях то, что призвано производить позитив и
аннулировать негатив, в действительности лишь смещает и одновременно приумножает
эффекты негатива, приводя к разрастанию нехватки (manque), бывшей его
причиной,—такая необходимость вписана в знак фармакон, который Робен (например)
рвет на части: здесь—лекарство, там—снадобье. Мы говорим именно знак фармакон,
желая тем самым отметить, что речь идет о неразрывном комплексе некоторого
означающего и некоторого означаемого понятия.
A) В
Тимее, который с первых страниц разворачивается (s'écarte) в проёме между
Египтом и Грецией, как между письмом и речью (“Вы, эллины, вечно остаетесь
детьми, и нет среди эллинов старца”, тогда как в Египте “всё с древних времен
записывается”: πάντα γεγραμμένα), Платон доказывает, что среди движений тела
наилучшее есть естественное движение, то, что совершается спонтанно,
изнутри—совершается телом “внутри себя и самим по себе”:
“Что
касается движений, наилучшее из них то, которое совершается [телом] внутри себя
и самим по себе, ибо оно более всего сродно движениям мысли, а также Вселенной;
менее совершенно то, которое вызвано посторонней силой; но хуже всего то, при
котором тело покоится в бездействии, между тем как посторонняя сила движет
отдельные его части. Соответственно, из всех видов очищения и укрепления тела
наиболее предпочтительна гимнастика; на втором месте стоит колебательное
движение при морских или иных поездках, если только они не приносят усталости; а
третье место занимает такой род воздействий, который, правда, приносит пользу в
случаях крайней необходимости, но в остальное время, безусловно, неприемлем для
разумного человека: речь идет о врачебном очищении тела силой снадобий (τής
φαρμακευτικής καθάρσεως). Если только недуг не представляет чрезвычайной
опасности, не нужно дразнить его лекарствами (ούκ έρεθιστέον φαρμακείαις). Дело
в том, что строение или сложение (σύστασις) любого недуга некоторым образом
сходно с природой живого существа (τή τών ζώων φύσει); между тем последняя
устроена так, что должна пройти определенную последовательность жизненных
сроков, причем как весь род в целом, так и каждое существо в отдельности имеет
строго положенный ему предел времени, которого и достигает, если не вмешивается
сила необходимости… Таким же образом устроены и недуги, и потому обрывать их
течение прежде положенного предела силой снадобий (φαρμακείαις) может лишь тот,
кто хочет, чтобы из легких расстройств проистекли тяжелые, а из
немногих—бесчисленные. Следовательно, лучше руководить телом с помощью
упорядоченного образа жизни, насколько это позволяют нам обстоятельства, нежели
дразнить недуг снадобьями (φαρμακεύοντα), делая тем самым беду закоренелой.” (89
ad).
Отметим
следующие пункты:
1.
Фармакон обвиняется как нечто вредное как раз в тот момент, когда весь контекст,
кажется, велит переводить его как “лекарство”, скорее чем “отрава”.
2.
Естественный недуг живого существа определяется по сути как аллергия, реакция на
вторжение постороннего, чуждого элемента. И то, что наиболее общее определение
недуга оказывается аллергией, составляет необходимость, поскольку естественная
жизнь тела должна подчиняться только своим собственным эндогенным движениям.
3. Подобно
тому как здоровье является авто-номным и авто-матическим, так и “нормальная”
болезнь свою автаркию являет тем, что противопоставляет фармацевтическим
вторжениям метастатические реакции, вызывающие смещение недуга, в конечном
счете—чтобы лишь усилить и приумножить точки его сопротивления. “Нормальный”
недуг защищается. Ускользая таким образом от дополнительных (supplémentaires)
понуждений, от патогенной надбавки фармакона, болезнь продолжает идти своим
путем.
4. Данная
схема предполагает, что живое конечно (как и его недуг): что оно может,
следовательно, вступать в отношение к своему иному в аллергическом недуге и что
оно имеет ограниченный срок, что смерть уже записана, предписана в его
структуре, в “составляющих [его] треугольниках”. (“Сами составляющие это
существо треугольники при своем соединении наделены способностью держаться
только до назначениого срока и не могут продлить жизнь долее.” Ibid.) Бессмертие
и совершенство живого состоят в том, чтобы не вступать в отношение ни к чему
внешнему (le dehors). Как в случае Бога (ср. Государство, II, 381 bc). Бог не
знает аллергии. Здоровье и сила (ύγίεια καί άρετή), которые часто ассоциируются,
когда речь идет о теле и по аналогии—о душе (ср. Горгий, 479 b), всегда исходят
изнутри. Фармакон есть то, что всегда грядет извне, он—внешнее как таковое, и
никогда не может обладать своей собственной определимой природой. И как же
исключить это паразитарное восполнение, но сохранить предел—к примеру,
треугольник?
(Часть
текста между тем, что выше и этим пропускаю –
K.)
Несмотря
на эти сходства, осуждение письма у ораторов не доходит до крайностей, как это
имеет место в Федре. Если письмена и обливаются презрением, то не в качестве
фармакона, нацеленного на растление памяти и истины. Просто логос—более
действенный фармакон. Так его называет Горгий. В качестве фармакона,
логос—одновременно благо и зло; он не руководствуется в первую очередь благом и
истиной. И только в рамках этой неоднозначности и этой таинственной
неопределенности логоса, после того как она признается, Горгий определяет истину
как мир, структуру или строй, сопряжение (κόσμος) логоса. Этим он несомненно
предвещает платоновский жест. Но прежде подобного определения, мы остаемся в
неоднозначном, неопределенном пространстве фармакона, того, что внутри логоса
остается потенцией, в потенции, не являясь еще прозрачным языком знания. Если бы
нам позволено было попытаться ухватить его в позднейших и как раз зависимых от
открытой таким образом истории категориях—категориях после решения,—здесь
следовало бы говорить об “иррациональности” живого логоса, о его способности
околдовывать, завораживать, обращая в камень, о его способности к алхимическим
превращениям, роднящей его с волшебством и магией. Волшебство (γοητεία),
психагогия—таковы “факты и жесты” речи, самого опасного фармакона. Этими словами
пользуется, стремясь квалифицировать силу дискурса, в своей Похвале Елене
Горгий:
“Боговдохновенные заклинания напевом слов (αί γάρ ένθεοι διά λόγων έπωιδαί)
сильны и радость принести, и печаль отвести; сливаясь с души представленьем,
мощь слов заклинаний своим волшебством (γοητείαι) её чарует (έθελξε), убеждает,
перерождает. Два есть средства у волшебства и волхвования: душевные заблуждения
и ложные представления. […] Что же мешает и о Елене сказать, что ушла она,
убежденная речью (ύμνος), ушла наподобие той, что не хочет идти, как незаконной
если бы силе она подчинилась и была бы похищена силой?… Ведь речь, убедившая
душу, её убедив, заставляет подчиниться сказанному, сочувствовать сделанному.
Убедивший так же виновен, как и принудивший; она же, убежденная, как
принужденная, напрасно в речах себе слышит поношение (45).”
Убеждающее
красноречие (πειθώ) есть сила взлома, увода, внутреннего совращения, незримого
похищения. Эта сама сила украдкости. Но, показывая, что Елена уступила насилию
речи (сдалась бы она перед буквой?), обезвинивая эту жертву, Горгий обвиняет
логос в его силе обмана. Он хочет “в речи своей (τώι λόγωι) приведя разумные
доводы (λογισμόν), снять обвинение с той, которой довольно дурного пришлось
услыхать, порицателей её лгущими вам показать, раскрыть правду и положить конец
невежеству”.
Но прежде
чем быть обузданным, укрощенным космосом и строем истины, логос есть дикое
животное, неуловимая, неоднозначная животность. Его магическая,
“фармацевтическая” сила проистекает от этой неоднозначности, и этим объясняется
её непропорциональность той малости, какой является слово:
“Если же
это речь её убедила и душу её обманом захватила, то и здесь нетрудно её защитить
и от этой вины обелить. Ибо слово—величайший владыка: видом малое и незаметное,
а дела творит чудесные—может страх прекратить и печаль отвратить, вызвать
радость, усилить жалость…”
“Убеждение, проникающее в душу через речь”—таков фармакон и таково имя, которым
пользуется Горгий:
“Одинаковую мощь (τόν αύτόν δέ λόγον) имеют и сила слова (τοϋ λόγου δύναμις) для
состояния души (πρός τήν τής ψυχής τάξιν), и состав лекарства (τών φαρμάκων
τάξις) для природы тел (τήν τών σωμάτων φύσιν). Подобно тому как из лекарств
разные разно уводят соки из тела и одни прекращают болезни, другие же жизнь,—так
же и речи: одни огорчают, те восхищают, эти пугают, иным же, кто слушает их, они
храбрость внушают. Бывает же, недобрым своим убеждением душу они очаровывают и
заколдовывают (τήν ψυχήν έφαρμάκευσαν καί έξεγοήτευσαν).”
Мимоходом
стоит задуматься над тем, что отношение (аналогия) между отношением логос/душа и
отношением фармакон/тело само обозначено как логос. Имя отношения—такое же, как
и у одного из его терминов. Фармакон оказывается включен в структуру логоса. Это
включение есть укрощение и решение.
Сноски:
40.
Позволю себе сослаться здесь, в качестве предварительного указания, на “Проблему
метода”, предложенную в Грамматологии. С учетом ряда предосторожностей, можно
сказать, что фармакон играет в этом прочтении Платона роль, аналогичную роли
восполнения в моем прочтении Руссо.
41. Ср., в
частности, Государство, II, 364 a, sq., Письма, 7, 333 e. Разбор этой проблемы,
вкупе с обильными и ценными ссылками, можно найти в следующей работе:
E.Moutsopoulos, la Musique dans l'œuvre de Platon, P.U.F., 1959, p.13 sq..
42. Мы
отсылаем здесь, в частности, к богатому, насыщенному тексту Жана-Пьера Вернана
(который подступается к этим проблемам, имея в виду нечто совсем иное) “Aspects
mythiques de la mémoire et du temps” в: Mythe et Pensée chez les Grecs, Maspéro,
1965. О слове τύπος, его отношениях с περιγραφή и παράδειγμα см.
A. von Blumenthal, Tupos und Paradeigma,
цитируется
в:
P.M.Shuhl, Platon et l'art de son temps, P.U.F., 1952, p.18, n.4.
45. Я
цитирую перевод, опубликованный в la Revue de poésie (“La Parole dite”, No 90,
octobre 1964). Об этом отрывке из Похвалы, об отношениях θέλγω и πείθω, чар и
убеждения, об их употреблении у Гомера, Эсхила и Платона см.
Diès, op. cit., p.116–117.
Примечания
к труду Дерриды вообще довольно интересны.
54.
Напомним предположительную этимологию пары фармакон/фармакос. Вот цитата из
Буасака (E.Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue grecque). “Φάρμακον:
заклятье, приворотное зелье, снадобье, лекарство, яд.
Φαρμακός:
чародей, колдун, отравитель; человек, приносимый в жертву во искупление грехов
города (Гиппонакт; Аристофан), отсюда злодей*.
Φαρμάσσω:
атт. -ττω: напитывать или отравлять ядом".
* Havers
IF XXV 375–392, исходя из
παρεμφαράκτος
:
παρακεκομμένος,
выводит φάρμακον от φαρμα: ‘удар (coup)’, а φαρμα—от корня bher: ударять,
поражать, ср. лит. bùriu, так что φάρμακον должен был бы означать: ‘нечто,
относящееся к удару демонической силы или используемое как целительное средство
против подобного удара’, с учетом большой распространенности народного поверья,
будто болезни вызываются ударами демонов и так же лечатся. Кречмер (Glotta III,
388 sq.) возражает, обращая внимание на то, что в эпосе φάρμακον означает всегда
некую субстанцию, траву, мазь, напиток или иное вещество, а не действие с целью
исцелить, заклясть, отравить; этимология Гаверса лишь добавляет еще одну
возможность к уже имеющимся—например, к выведению
φάρμακον
от
φέρω, φέρμα
(‘quod terra fert: урожай’)”.
Ср. также
Harrison, p.108: “…φαρμακός
означает просто ‘чудо-человек’. Родственный термин в литовском—bùrin, волшебный;
в латыне он принимает форму forma, формула, магическое заклятье; наше ‘формуляр’
сохраняет еще следы своей первобытной коннотации.
Φάρμακον
обозначал в греческом целебное снадобье, отраву, краску, но всегда в магическом
смысле, неважно в добром или в худом”.
В своей
Anatomy of criticism Нортроп Фрай признает в фигуре фармакоса постоянную
архетипическую структуру западной литературы. Отторжение фармакоса, который, по
словам Фрая, “ни невинен, ни виновен” p.41, воспроизводится у Аристофана и у
Шекспира, затрагивает и Шейлока, и Фальстафа, и Тартюфа, так же как и Шарло.
“Фигуру фармакоса мы встречаем в лице Эстер Принн Готорна, Билли Бадда Мелвила,
Тесс Харди, Септимуса г-жи Даллоуэй, в историях преследуемых евреев и
чернокожих, в историях художников, чей гений превращает их в Исмаилов
буржуазного общества” (p.41, ср. также p.44–48, p.148–49.
В тексте
Дерриды это выражено не слишком явно, поэтому не лишним станет отметить, что
слова Хауэрса, Харрисона, Кречмера и других являются сами по себе примечанием к
словарному значению слова φάρμακον у Буассака,
поясняющими происхождение различных смыслов слова. И запомним то, как поясняет
этимологию φάρμακον Хауэрс – у нас позже найдется повод вернуться к этому
пояснению.
Как же
все-таки корректно перевести слова Откровения и послания к Галатам?
Блаженный
Иероним, переводя Писание на латынь, выбрал гораздо удачное слово для тех, кто
поименован тексте Синодального перевода чародеями – veneficia.
У слова
veneficium, точно так же как и у греческого φαρμακον, основное значение
«отравление». Вторым значением – приготовление волшебных снадобий (обычно
употребляется в значении приворотных снадобий).
Veneficia
– по основному значению отравитель, а по второму чародей. Именно в смысле
приготовления всяких снадобий и составов чародей, а не колдун-заклинатель.
Собственно, вспомним, откуда взялась волшебная палочка. Venenatus virga в своем
первоначальном значении – палочка, которую ловцы намазывали клеем и различными
приманками. чтобы на нее села птица.
Перевод
Библии на латынь гораздо ближе к исходным текстам как в Новом, так и в Ветхом
Завете – расхождения хоть и есть, но вовсе не так разительны, как это порой
бывает при сверке русского текста с оригиналом. Безусловно, латынью в
православии не пользуются, но давайте не забывать, что блаженный Иероним
Стридонский является также и одним из Святых Православной Церкви, так что его
перевод несколько авторитетней Синодального, который критиковать начали еще до
печати, причем одним из главных критиков был опять же Православный Святой –
Святитель Феофан, затворник Вышенский.
А можно ли
столь же удачно перевести спорные термины на русский язык? Найдется ли
подходящее слово?
Найдется.
В русском языке существует слово, стопроцентно соответствующее по своим основным
значениям слову φαρμακον. Производные от этого слова также аналогичны
производным от φαρμακον.
Словарь
Даля:
ЗЕЛИЕ,
зелье ср. былье, злак, трава, растение; || сорные травы
и семена
в хлебе; || снадобье, лекарство; || яд, отрава; || стар. огнестрельный
порох. || Человек негодный, безпокойный, безпутный, пройдоха, негодяй.
Он зелье пьет от ломоты. Приворотное зелье, которым знахари
привораживают кого. Зелье от мышей. Много растений бол. на юге, носят
название зелий: богородичное зелье, Ajuga chamaepitys, паклун,
сутловка; ведьмино-зелье, Circea lutetiana, колдунова-трава, дикий
репей; зелье вонючее, жеруха; - жабячье, Anemone
ranunculoides; - печенковое, чистотел; - раминовое
(раменное?), Euphorbia virgatа; - солодкое, Pulicaria dysenterica,
воловьи-язычки, дивосил проносный, кровобой; - зольное (а не
сольное), зольник желтый, заячий-клевер, Anthyllis vulneraria; -
сонное, вообще, одуряющее; сон-трава, одурник (а не огурник), сонный дурман,
песьи-вишни. Atropa belladonnа; - черное, белок, анемон. От лихого
зелья порча живет. Не то зелье, чтоб в землю, а то, чтоб жилось. От смерти нет
зелья. Не от зелья умирают, от смерти. От старости зелье могила. Колья зелья, а
печь перепечи (?). Землепроходное зелье, солдатчина. Добрая жена
веселье, а худая - злое зелье. Нет такого зелья, как жена с похмелья. Змея
умирает, а зелье хватает. Злое зелье не уйдет в землю. Зелья, что лечат с
похмелья, розог. Зелко умал. зельеце, зельишко,
снадобьеце, лекарство. Зель ж. твер. молодая озимь, по
осени или по весне, до колошенья. Зелька ж. перм. ягня,
ягнятко, ягненок самка. Зелень ж. все, что одето листьями,
лиственая одежда всего растительного царства, - древесная, листва: -
огородная, овощи, собств. листья, ботва; - полевая, злак, трава;
- прудовая, водяная, нитчатка, тина; - кислая, гнилая,
зазелень, плесень. Зелень, мн. зеленя кур. озимь, зель.
Зеленя-то хороши, да яровые плохи. Горная зелень, вид медной руды,
углекислая медь, с примесями. || Зелень, вообще все, что зелено, и
зеленый цвет или краска, относительно вида, качества, оттенка. Эта зелень
ярче, мутнее, голубее и пр. Зелень ж. пск. твер. чад,
угар, дым, смрад; курево.
Зелейный,
встарь также зеленский (зеленский съезд, пороховой, в
Нижнем), к зелью относящ., принадлежащий. Зелейная скляница,
снадобица. Зелейный мастер, стар. пороховой. Зелейник м. –ница
ж. лекарь, лекарка, кто лечит и чарует травами, зельями, кореньями. ||
Зелейник также книга травник, описанье трав и их целебных свойств,
Materia medica. || стар. казенник, казенная часть орудия, куда кладется заряд.
Зелейничий, зелейнику принадлежащий, свойственый.
Зелейничество ср. лекарничество, знахарство, искусство зелейника.
Зелейщик м. стар. пороховой мастер.
Итак,
наиболее корректным переводом φαρμάκοις в Откровении было бы «зелейники».
Ну, с переводом
φαρμακον как яд-лекарство (зелье) все,
вроде бы, понятно. Лекарства и яды обозначались одним и тем же словом,
отделение ядов от лекарств в языке произошло позже. Понятно также, с каких
пирогов в странах, где не было столь высокой культуры, как в Греции и Риме
античных времен, зелейники (φάρμακοι)
угодили в разряд колдунов – причем не важно, колдовали ли они при этом или нет.
Уж больно ремесло загадочное, да и образ жизни, с этим ремеслом связанный,
тоже.
Стоит также
вспомнить, что само ремесло зелейников находилось в древней Греции под
покровительством довольно неприятной богини – Гекаты, по совместительству также
являющейся богиней луны, ночи и подземного царства, ритуалы в честь которой
проводились в полнолуние, а на перекрестках дорог ставились ее трехликие
статуи. В более поздние времена там же проводились и обряды – не оттуда ли
пошла эта дожившая до наших времен в народной магии традиция? Любопытно, что образ этого божества далее
трансформировался в покровительницу колдовства, причем произошло это уже на
закате античности, в период широкого распространения христианства и, не
исключено, что не без влияния христианских воззрений на деятельность служителей
Гекаты.
О последних стоит
упомянуть подробнее – уже хотя бы из-за одного их названия: фармакиды. Так
называли и мифологических служанок богини, которых она, в частности, послала
задержать роды Алкмены,
так и вполне реальных ее жриц, также не чуждых зелейничества. Одной из жриц
Гекаты, по преданию, была Медея. Вот как, например, описывает ее Софокл в
утраченной трагедии «Rizotomoi», отрывок из которой известен нам из
«Сатурналий» Макробия:
Отвращая свой взор от работы руки,
Она сок мутно-белый, стекающий с ран
Ядовитого зелья, в сосуд медяной
Осторожно приемлет...
А в ларцах сокровенных хранятся пучки
Ею срезанных трав.
Их она с причитанием громким в [ночи],
Обнаженная, медным ссекала серпом.
А вот так описывает действия зелейников
Вергилий в «Георгиках»:
Тут-то тягучий течет, называемый меж пастухами
Верным названьем его, «гиппоман», из кобыльей утробы, —
Мачехи злые тот сок испокон веков собирали,
Всяческих трав добавляли к нему и слов не безвредных.
Далее углубляться в этот вопрос, полагаю, ни
к чему, поскольку все и так очевидно. Подобные действия, связанные с
изготовлением зелий, не могли найти одобрения у христиан.
У нас осталось еще
одно значение слова φαρμακος, тоже
интересное. Очистительная жертва.
Вернемся к труду
Дерриды и заглянем теперь в 6-ю главу.
Персонажа, известного как фармакос, сравнивали с козлом
отпущения. Зло и внешнее, изгнание зла, его исключение из тела (и из)
города—таковы два основных значения этого персонажа и связанной с ним
ритуальной практики.
Вот как описывает их Гарпократион в своем комментарии к слову
фармакос: “В Афинах на Таргелии для очищения города выгоняли двоих: одного за
мужчин и одного за женщин” (51). Как правило,
φάρμακοι предавали смерти. Но это не
было, по-видимому (52), основной целью действия. Смерть чаще всего происходила
как побочный эффект энергичного бичевания фармакоса. Причем бичующие метили
ему, прежде всего, в половые органы (53). Сначала фармакос отсекался от тела
города—теперь секли (54) его самого, дабы изгнать или привлечь зло вовне его
тела. Возможно, фармакоса также сжигали подобно очистительной жертве (καθαρμός). Вот как описывает церемонию Цец в своих Хилиадах, со ссылкой
на фрагменты сатирического поэта Гиппонакса: “(Обряд) фармакоса был одним из
этих древних обычаев очищения. Если город поражала какая-либо напасть,
выражавшая гнев богов—чума, голод или другое бедствие,—для очищения и исцеления
среди горожан находили какого-нибудь урода или калеку, чтобы тот принял на себя
все обрушившиеся на город напасти. Такого человека приводили в подходящее место,
где кормили его с рук фигами, ячменным хлебом и сыром. Потом его семь раз
ударяли по гениталиям корневищем морского лука, веткой дикого фигового дерева
или других дикорастущих деревьев. После этого его сжигали на погребальном
костре, разложенном из древесины лесных деревьев, а пепел выбрасывали в
море—все это, как я сказал, для очищения от поразивших город напастей”.
Таргелии
в различных справочниках:
Словарь
классических древностей Харпера (1898):
Таргелии (θαργήλια)
Главный праздник
Аполлона в Афинах, отмечавшийся седьмого числа месяца таргелиона (май-июнь),
день рождения бога. Изначально он был связан с созреванием сельскохозяйственных
культур. В этот день проходила торжественная процессия, и Аполлону, Артемиде и
Хорам подносились начатки плодов этого года. В то же время это был
искупительный праздник, и в ходе него приносилась своеобразная примирительная
жертва, целью которой было очистить государство от любой вины и отвратить гнев
бога, чтобы он не проявил свою силу разрушения и возмездия и не поразил поля
иссушающей жарой, а людей — чумой. Двух человек, приговоренных к смерти —
мужчину и женщину, как представителей мужской и женской половин населения —
проводили по городу с гирляндами из фиг на шеях, под музыку флейт и пение, и
бичевали водорослями и ветвями фигового дерева. Затем их приносили в жертву на
особом месте на берегу, тела сжигали, а пепел выбрасывали в море. В более
поздние времена, кажется, удовлетворялись тем, что сбрасывали жертв
(φαρμακοί) с высоты в море, ловили их в
полете и изгоняли из страны. Помимо этих жертв, происходили также праздничные
шествия и состязания хоров мужчин и мальчиков. В то же время большое
празднество в честь Аполлона предположительно происходило в Делосе, куда
афиняне посылали священное посольство на древнем корабле, на котором, по
преданию, Тезей плавал на Крит, и который постоянно содержали в исправности.
Источники: Preller,
Griechische Mythologie, i. 209;
и A. Mommsen, Heortologie, 50, 53,
414-425.
Брокгауз и Ефрон:
Таргелии или
Фаргелии
(Θαργήλια, что означает созревание
плодов) — афинский праздник, совершавшийся 6-го и 7-го таргелиона (см.) в честь
Аполлона и Артемиды. Т. и Дельфинии были важнейшими из Аполлоновых праздников в
Афинах. Аполлона почитали как бога жаркого лета, способствующего созреванию
полевых плодов, и приносили ему и Горам первенцы этих плодов. Но так как жара,
с другой стороны, может также действовать гибельно не только на растительность,
но и на самих людей, то афиняне в этот праздник, стараясь сделать угодное богу,
совершали разные умилостивительные и очистительные обряды. Первоначально,
кажется, приносили в жертву либо двух мужчин, либо мужчину и женщину, называя
их φαρμακοί (т.. е. служащими
очистительною жертвою за грехи народа — козлища очищения). Впоследствии
афиняне, вероятно, отменили эту казнь и производили ее только для вида;
подробности этого символического обряда неизвестны. 7-го таргелиона афиняне
предавались праздничному веселью, сопровождаемому процессиями и всевозможными
состязаниями. Важность этого праздника явствует из того, что заведование им
поручалось первому архонту (эпониму). Ср. Preller-Rober t, "Griechische
Mythologie" (I); Aug. Mommsen, "Feste der Stadt Athen"; P.
Stengel, "Die griechischen Kultusaltertümer" (= Jw.
Müller's "Handbuch d. Klass.
Altert.", V,
3; там же указана и остальная литература); В. Латышев, "Очерк греческих
древностей" (II, СПб., 1899)
А. Пр.
Уильям Смит,
словарь греко-романских древностей (1875):
Таргелии (θαργήλια),
празднество, отмечавшееся в Афинах шестого и седьмого таргелиона
в честь Аполлона и Артемиды (Этимология: M.; Suidas, s.v.
Θαργήλια), или же, согласно
комментатору на Аристофана (Equit. 1405), в честь Гелиоса и Хор; однако
последнее заявление в сущности говорит о том же, что и первое. Аполлон,
которого чтили этим празднеством, есть Аполлон Делосский (Athen. X p424).
Собственно празднество, или таргелии в узком смысле слова,
по-видимому, происходило седьмого числа, а в предшествующий день город Афины,
или скорее его жители, проходили очищение (Plut.
Symp. viii.1; Diog. Laërt. II.44;
Harpocrat. s.v.
Φαρμακός).
Способ, которым
осуществлялось это очищение, крайне необычен и очевидно является отголоском
весьма древних ритуалов, поскольку в этот день предавали смерти двух человек,
один из которых умирал за мужчин, а другой — за женщин Афин. Такие жертвы
именовались φαρμακοί; по некоторым
сведениям, оба они были мужчинами, однако другие источники указывают, что за
женщин умирала женщина, а вторая жертва была мужчиной (Hesych. s.v.
Φαρμακοί). В день жертвоприношения
обоих выводили из города в место на побережье под аккомпанемент специфической
мелодии, называемой κραδίης
νόμος, играемой на флейте (Hesych, s.v.). На шею
жертвы, умирающей за мужчин, надевали гирлянду из черных фиг, а на шею другой —
из белых; по пути к месту предназначения их били палками из фигового дерева и
швыряли в них фиги и другие предметы. В руки им вкладывали сыр, фиги и лепешки,
чтобы они могли съесть их. Наконец, их сжигали на погребальном костре,
сложенном из диких фиговых деревьев, а пепел выбрасывали в море и развеивали по
ветру (Tzetzes, Chil. V.25). Некоторые авторы заключают по отрывку из Аммония
(de Different.
Vocab. p142,
ed. Valck.), что жертв бросали живыми в море, но этот
отрывок оставляет вопрос непроясненным. Нам неизвестно, совершалось ли такое
искупительное и очищающее жертвоприношение каждый год, но по наименованию жертв
(φαρμακοί) и по тексту Цеца,
основанному на надежных источниках, можно считать весьма вероятным, что жертва
приносилась только в случае тяжкого бедствия, обрушившегося на город
(νοσούσης τής
πόλεως), такого как чума, голод и т.д. Каких
именно людей избирали по подобным случаям, не упоминается, и только из Свиды
(s.v. Φαρμακοί) мы узнаем, что их
содержали за государственный счет (δημοσία
τρεφόμενοι). Но, по всей
видимости, это были приговоренные к смерти преступники, которых государство
содержало с момента вынесения приговора до жертвоприношения таргелий. В более
ранние времена, однако, жертвами были не преступники, но либо увечные (Tzetzes,
l.c.; Schol. ad Aristoph. Ran. 733), либо те, кто добровольно вызвался умереть
ради блага своей страны (Athen. IX p370; Suidas, s.v.
Παρθένοι).
Второй день таргелий отмечался шествием и агоном, представлявшим
собой циклический рефрен, повторявшийся мужчинами за счет хорега (Lysias, de
Muner. accept. p255; Antiphon, de Choreut. c11; Demosth. in Mid. p517).
Наградой победителю агона служил треножник, который он должен был посвятить в
храм Аполлона, построенный Персистратом (Suidas, s.v.
Πύθιον). В этот день обыкновенно люди, принятые в
семью через усыновление, официально регистрировались и принимались в род и
фратрию приемных родителей. Процедура эта совпадала с процедурой регистрации
собственных детей в апатурии (Isaeus, de Apollod. hered. c15, de Aristarch.
hered. c8). [Adoptio (Greek).]
Относительно происхождения таргелий есть два упоминания.
Согласно Истру (ap.
Phot. Lex.
p467; Etymol.
M., и Harpocrat. s.v.
Φαρμακός)
φαρμακοί унаследовали имя от некого
Фармака, который похитил священные сосуды Аполлона, был пойман на месте
преступления людьми Ахилла и побит камнями; это событие и было увековечено
ужасным жертвоприношением таргелий. Элладий, с другой стороны (p534.3),
утверждает, что подобные искупительные жертвы были впервые принесены, дабы
очистить город от заразной болезни, поскольку афинян после смерти критянина
Андрогея поразила чума. Похожее празднество, возможно подражание таргелиям,
отмечалось в Массилии (Petron. 141). (См. также Meursius, Graecia Feriata, s.v.
Θαργήλια: Bode, Gesch.der lyrisch.
Dichtkunst der Hellen.
I p173, &c., где также есть пояснения по поводу
κραδίης νόμος;
K. F. Hermann, Handb. der Gottesd.
Alterth. § 60 n4, &c.).
То есть, мы
наблюдаем языческий обряд с человеческим жертвоприношением (даже если оно позже
и стало символическим).
Таким образом, φάρμακοι
встает в один ряд с идоложертвенным, а сам праздник – с календами, вотами,
врумалиями и прочими осуждаемыми в христианстве языческими праздниками. См.,
например, Правило 62 Трулльского Собора.
Американский
ученый Комптон Тодд на своем персональном сайте приводит подборку свидетельств
из античной литературы о ритуале фармакона,
выполненную им для работы «Жертва муз: поэт как козел отпущения, воин и герой в
греко-римском и индоевропейском мифе и истории».
Подборка содержит 71 одну цитату из различных авторов: 11 фрагментов из
Гиппонакта; 8
фрагментов из Аристофана; по 4 фрагмента из Демосфена, Овидия, Мавра Сервия
Гонората и Исихия
Александрийского; по 2
фрагмента из Эвполида,
Менандра, Цицерона, Петрония Арбитра и Плутарха; по одному фрагменту – из
Стесихора, Анакреонта,
Эврипида, Лисия,
Аристоксена Тарентского,
Эсхина Сократика, Каллимаха,
Истроса Каллимахея,
Аполлония Родосского, Лукиана, Дидима Александрийского,
Эсхила, Страбона, Филона Библского,
Луция Флавия Арриана,
Птолемея Гефестиона,
Флавия Аркадия Августа,
Элия Геродиана, Луция
Флавия Филострата,
Клавдия Элиана, Валерия
Гарпократа, Луция
Ампелия Элладия Кесарийского,
Лактанция Плакида
и Суды.
Для чего я так
подробно привожу список авторов, не ограничиваясь простым упоминанием общей
цифры?
Здесь важно показать, что ритуал фармакона
был известен с глубокой древности и до времен возникновения и распространения
христианства, в чем легко убедиться, просмотрев даты жизни цитируемых Тоддом
авторов. По малоизвестным авторам я даю краткие справки, более известных,
полагаю, читателя не затруднит найти самостоятельно.
Отметим, что
основной массив упоминаний о ритуале приходится на период с
I века до Р.Х по
II век по Р.Х. – то
есть, в этот период фармакон пользовался заметной популярностью в античном мире
и можно смело утверждать, что он был, несомненно, известен и автору Откровения.
Внимательный
читатель мог бы, пересчитав количество цитат в приведенном мною списке,
заметить, что их там ровно семьдесят, а вовсе не семьдесят одна, как я сказала,
описывая подборку Комптона Тодда. И семьдесят первая окажется для нас очень
любопытной. В качестве таковой Тодд приводит 4-ю главу Первого послания к
Коринфянам.
В чем дело? Ведь в
этой главе нет слова φαρμακός или
φαρμακοί?
Действительно,
нет. Но есть слово, кторое автор считает родственным ему.
13-й стих этой
главы в Синодальном переводе звучит так:
хулят нас, мы молим; мы как сор для мира,
как прах, всеми попираемый доныне
Греческий текст:
δυσφημούμενοι
παρακαλοῦμεν:
ὡς περικαθάρματα
τοῦ κόσμου
ἐγενήθημεν,
πάντων περίψημα,
ἕως ἄρτι.
Вспомним-ка, как
истолковывает этимологию слова φαρμακος
Хауэрс в примечании 54 у Дерриды. Его выводы сразу же заставляют вспомнить
περικαθάρματα
в послании к Галатам. Я не уверена в правомерности этой гипотезы, но она
интересна.
Апостол Павел был
блестящим оратором, с одинаковой легкостью как воспаряющим к высотам иудейского
богословия, так и спускающимся на язык простонародья, чему, несомненно,
способствовало как место его рождения – город Тарс, столица Киликии, знаменитая
своей торговлей и ученостью – так и прекрасное фарисейское образование,
полученное под наставничеством Гамалиила (по некоторым мнениям также
происходившего из Тарса). Широкое применение в словах апостола Павла приемов
эллинской риторики отмечает большое количество исследователей.
Если предположить,
что предположение Хауэрса истинно, а Павел употребил это слово не просто в
общепринятом значении «мусор», а вложив в него более глубокое значение, то
невозможно не восхититься ёмкой многогранностью апостольских слов. Тут и отсыл
к языческим таргелиям, во время которых общество избавлялось от неугодных ему
членов, изгоняя их и убивая (поносят вас и гонят за имя Мое; будете ненавидимы всеми за имя Мое; даже
наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит
Богу) – но и избавлялось благодаря гонимым от напастей, практически
открытым текстом прописанный в предыдущий двух стихах послания: терпим голод
и жажду, и наготу и побои, и скитаемся …
Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим. И ясно видимая параллель с ветхозаветным
козлом отпущения, на которого возлагались грехи всего народа, после чего козел
изгонялся в пустыню. И, как венец всего, отсюда возводится мысль к жертве
Христовой (Агнец Божий, который берет на себя грех мира). Едва ли не
половина всей красоты христианского вероучения вмещается всего в одну фразу
благодаря удачно выбранному слову, великолепно выражающему сразу несколько
слоев смысла!
Давайте вернемся к
непосредственному разбору значения слова
φαρμακον и производных от него в
Писании.
Значительный
интерес для нас представляет тот факт, что церковные авторы эпохи Вселенских
Соборов в своих наставлениях о небогоугодности колдовства – а наставлений таких
мы можем обнаружить в их трудах немалое количество – совершенно при этом не
ссылались на Откровение Иоанна Богослова. Во всяком случае, мне за все годы
изучения этого вопроса таких ссылок обнаружить не удалось, и указать на них мне
никто из оппонентов не сумел.
Можно было бы,
конечно, сослаться на тот факт, что сам статус Апокалипсиса был длительное
время неопределенным в Церкви, окончательно книга заняла свое место в каноне
Нового Завета только на
VII Вселенском Соборе. Но, с другой стороны,
хотя многие из Отец не принимали ее как богодухновенную (и даже высказывались
отдельные мысли о ее еретическом происхождении), называющих ее частью
Священного Писания тоже было немало, а просто принимавших и считавших ее
душеполезной – еще больше. На труды друг друга Отцы и ссылались в изобилии, и
цитировали друг друга, и даже порой заимствовали удачные места у других,
забывая указать их авторство. А с Откровением применительно к нашей теме –
молчание. Стоит задуматься, по каким причинам такое могло произойти…
Но, может быть,
все-таки мы допустили ошибку и Отцы Церкви понимали
φαρμακον исключительно как колдовство?
Что ж, обратимся
за справкой к Отцам и возьмем для примера очень известные цитаты из них. И
первая окажется непосредственно связана с тематикой нашего исследования.
Третье
каноническое послание святаго отца нашего Василия архиепископа Кесарии
Каппадокийския к Амфилохию епископу Иконийскому входит в число соборно
утвержденных канонических правил Православной Церкви. В нем есть пункт,
обозначаемый в сборниках православных канонов как каноническое правило Василия
Великого 65.
Покаявшийся в волшебстве, или в отравлении,
да проведет в покаянии время положенное для убийцы, с распределением сообразно
тому, как сам себя обличил в каждом грехе.
Прочтем его на
греческом.
Κανὼν
ξε’:
Ὁ
γοητείαν ἢ
φαρμακείαν
ἐξαγορεύων
τὸν τοῦ φονέως
χρόνον
ἐξομολογήσεται,
οὕτως
οἰκονομουμένος,
ὡς ὁ ἐν ἐκείνῳ
τῷ ἁμαρτήματι
ἑαυτὸν
ἐλέγξας.
Упс! А
колдовство-то у Василия Великого обозначено словом
γοητείαν! А слово
φαρμακείαν означает у него
«отравление», что нас почему-то теперь уже не удивляет.
«А уж не кощунствовал
ли случайно святой Игнатий Богоносец в своей классической формуле “Евхаристия
есть лекарство бессмертия”?» – спросим
мы православного собеседника, чтобы окончательно удостовериться в том, что Отцы
отнюдь не стремились все дружно и едино прочесть φάρμακον как «чародейство», – «Уж не называл ли случайно величайшее
Таинство колдовством?»
Нет? Точно нет?
Вот и я почему-то так думаю. А звучит его знаменитая формула на греческом как «φάρμακον
αθανασίας»…
Так что нужно,
видимо, всерьез задуматься, стоит ли делать широкие обобщения, исходя из
имеющегося у нас перевода трех новозаветных стихов на русский язык.
___________________________________
Сноски
Вавилонский Талмуд, тр. Сангедрин, 43а
Пер. Ф.Ф.Зелинского. Цит. по: Петров А.В. Теургия:
социо-культурные аспекты возникновения философски интерпретированной магии в
античности. Центр Антиковедения СпбГУ, 2001.
Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И.Е.Андреевского,
К.К.Арсеньева и заслуженного профессора Ф.Ф. Петрушевского. Издатели:
Ф.А.Брокгауз (Лейпциг), И.А.Ефрон (С.- Петербург). С.-Петербург, 1890—1907. Том
32А (64) «Тай — Термиты».
(1901)
Maurus
Servius Honoratus, римский грамматик конца IV века, автор обширных комментариев
к произведениям Вергилия.
Σοῦδα, крупнейший энциклопедический словарь на
греческом языке, составлен в Византии во второй половине X века.
См.напр.
обзорный доклад: Акимов В.В. Античная риторика в Первом послании к Коринфянам
св. апостола Павла.
VIII
Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дням славянской письменности и
культуры (Минск, 23 – 26 мая 2002 г.). Материалы чтений. Часть 1, книга 1.
Минск: ООО «Ковчег», 2003 – 127 с., стр. 118-127.
Использованная литература (помимо указанной в сносках):
● Жак Деррида. Фармация Платона. Пер. и комм. канд.
Философск. наук А.В. Гаpаджа.
● Абд-эль-Фади. Личность Христа в Евангелии и в
Коране.
● Айдын Ариф оглы Али-заде. Библия и Коран:
сравнительный анализ (мировоззренческий аспект).
● Б.Г. Деревенский. Иисус Христос в документах
истории.
● Греческие тексты Нового Завета в изданиях 1550 Stephens Textus Receptus, The New
Testament in the original Greek according to the Byzantine/Majority textform (Atlanta
U.S.A. 1991), 1881 Westcott and Hort Greek Text, Tischendorf's 8th edition Greek
New Testament, Fourth Revised Edition (United Bible Societies, Stuttgart 1993) –
цит. по текстам компьютерной программы "GrkComp" (Сравнение библейских текстов).
● Biblia Sacra Vulgatae Editionis Sixti V et Clementis VIII. — Roma: C.Vercellone Editore, 1861. — 839 p.
● Ветхий и Новый завет. Текст Русского Синодального перевода Библии.
● Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. — 2-е изд., переработ. и дополн. – М.: Русский язык, 1976. – 1098 с.
● Библия на церковнославянском языке - репр. воспр. изд. Библия сиречь книги
Священнаго Писания Ветхаго и Новаго Завета 1900 г.
● Интерлинеарный Греческо-Русский Новый завет (Донецкая христианская библиотека).
© Karolinka, май 2010
- март 2014.
При копировании
и цитировании ссылки обязательны.